Последние новости

Вадим Руденко
Совок
почетный гражданин советского союза
Я ехал в автобусе поглощённый своими мелочными проблемами бытия. Где-то в стороне слышался голос молодого паренька, который пытался познакомиться с девушкой сидящей позади него. Молодой человек был не много пьян, но шарма и галантности от этого у него не убавилось. Скорее наоборот – проявились, задавленные стеснением и нормами морали, новые способности.
Мне понравился этот весёленький тип. Сразу было видно, что у него есть серьёзные поводы и выпить и повеселиться. Не понравилось мне поведение девушки. Малолетка, конечно. Таким подавай голубоглазых блондинов с тонкой талией и длинными ногами. Пока не подрастут, нормальных мужиков не замечают. Сидит, носом воротит. Но, между прочим, где-то в глубине души наслаждается. Чувствуется, что таких комплиментов никогда раньше не слышала от тех уродов, за которыми сама бегала да сохла. В глаза бы ему посмотрела. Что-то в них какая-то не русская печаль для выпившего человека.
Мне стало интересно наблюдать за тем, как разворачивались события дальше, но всё испортила тётечка, сидящая в другом конце автобуса.
Какое ей, собственно, дело кто чем занимается. Нет же. Уж что-то её очень сильно задело, и возмущения полились рекой о том, как всякие твари позаливают глаза и нормальным людям портят жизнь. Постепенно в поддержку тётечки стали раздаваться голоса других женщин, всё больше преклонного возраста. Пока что всё это было похоже на обычное транспортное хамство, к которому в нашем городе не привыкать. Весёлый паренёк молча посмотрел на высоко-моральную тётечку и, игнорируя её бредовые высказывания, продолжал общаться с девушкой. Когда же подал голос какой-то мужичок, я не выдержал и положил руку на плечо ещё одного говоруна:
– Ты то чего лезешь в бабские склоки?
Но тут и у паренька, видимо, не выдержали нервы, и он ответил что-то мужичку. Ох, как же понесла та тётечка-заводила, о всякой мрази, которую выдерживает земля. И ни дай Бог, чтобы такой урод, хотя бы на выстрел подошёл к её дочери, которую она, между прочим, очень правильно воспитала.
Я посмотрел в глаза «урода» – между прочим, очень даже симпатичный молодой человек. И, думаю, даже глазами малолеток.
Мужичок снова что-то крякнул, и моим пальцам стало больно, но видимо, плечу болтуна стало ещё больнее.
– Да пойми ж ты, мужик, – отвечал ему паренёк. – Если эта девушка сейчас согласиться пойти со мной на дискотеку, я буду на вершине рая.
– Рая ему захотелось! – не унималась тётечка. – Рай ещё заслужить надо. Раньше и в Бога то не верили, а теперь, ещё молоко на губах не обсохло, а ему уже рай подавай.
Тут уже не выдержал сосед молодого «Казановы»:
– А вы знаете, через какой ад он прошёл, что бы вам тут спокойно спалось?
– Да какой ад? Что вы мелете? – всё больше распалялась в гневе благовоспитанная тётечка.
– Пацан неделю как из Чечни вернулся, – уже не на шутку стал распаляться сосед. Парень, убрав улыбку с лица, схватил его за плечо, молча, но, выразительно требуя прекратить разговор.
– Какая Чечня, какой ад? Что вы, сопляки, белены пообъедались? – тётечке трудно было сбавить свой пыл.
– А ну закрой свой рот, поганая кошёлка! – взвизгнул под моей рукой мужичок. – А ты, давай соглашайся. Сидишь тут, носом вертишь, – приказал он девушке.
Но, малолетка и так уже готова была разрыдаться. Она схватила парня за руку и потащила к выходу. Водитель остановил автобус напротив ДК:
– Ребята, здесь сегодня должна быть убойная дискотека. С крутыми Ди-Джеями.
Автобус ехал дальше. Пассажиры, лишившись развлечения, стали откровенно скучать. Только сердобольная тётечка всё не унималась и продолжала кому-то, что-то рассказывать.
Я подошёл к ней поближе, чтобы рассмотреть это существо. Мне, иногда, становиться жаль, а может быть и стыдно за то, что я живу в такой стране, с таким народом. Кто она – эта гражданочка моей многострадальной Родины? Что о ней можно сказать? Ничего хорошего и пусть ей будет стыдно, если она хоть что-то вообще способна понимать.
Существо, просиживающее в какой-нибудь конторе под названием «Ни-кому-на-хрен-не-нужный-труд». Должностные обязанности, как и у большинства в этом государстве, перекладывать какие-то жёлтые бумаги из кучи в кучку и бесконечно пить чай, да бегать за пирожками. О, сколько вас недовольных новым режимом, перестройкой, демократией? Как вам всё поперёк горла стоит? Цены растут, зарплата маленькая, всю страну разграбили, жрать не чего. А отчего же, пардон, вы все такие толстые? Это что, от хронического недоедания или непосильного труда? И почему это вам в голову не придёт такая идиотская мысль, что если хочется много зарабатывать, надо не много больше работать, что бы приносить пользу, хотя бы самому себе.
У меня сразу же перед глазами всплыл весь быт этого жалкого существа. У неё тАкОООе высшее образование, которое не прибавило ни одной извилины к её мозгам. Потому как учила она только историю КПСС, да и ту, естественно, теперь не помнит.
Дочка пошла по тем же стопам и грызет гранит какой-нибудь бесполезной науки, что бы проектировать детали на агрегаты, снятые с производства лет двадцать назад. Сердобольная мамаша усердно копит деньги для приданного: брачная кровать из какого-нибудь фирменного гарнитура, безумные простыни и покрывала, полотенца и сервизы. Буд-то бы девчонка, если она хоть не много симпатичная, не потеряет успешно девственность на каком-нибудь сеновале, проходя практику в колхозе, а не на брачном ложе, миновав свой двадцать пятый день рождения. Но у этой маменьки, я уверен, голова должна болеть не о том, как набрать приданного, а где найти идиота согласного на ней жениться.
Да и зачем ей это всё? Секс будет более чем вялым и скучным. Какая разница, на каких простынях? Да и зачем доченьке сервиз, если в гостях у неё будет только маменька, да пара тётушек?
Ох, маманя. Безразмерная тучность, завышенная самооценка. Жизнь в бесконечных очередях за окорочками и колбасой. Тщательно оберегаемый теплый домашний очаг из полуразвалившейся мебели и застиранных тряпок.
Безвольный и бесхарактерный муж подкаблучник...
И как же объяснить этой, всё ещё живущей в СССР тётечке, что где-то совсем рядом идёт настоящая война, и по настоящему умирают вот такие «соплячки». Интересно, где был бы её гонор и благовоспитанность, и как бы она оберегала свою уродливую доченьку-крокодила, когда на нашу землю пришли бы те, от кого их всех спас этот, не имеющий ни на что права, молодой человек. Ему нельзя знакомиться с девушками. Ему нельзя быть весёлым и пить алкоголь. Маленький ещё. А под пули ходить – не маленький?
Ох, и дура ты тётечка. Какая же ты дура.
Мне вдруг представилось, как она придёт сейчас домой. Устало снимет жмущие разбитые туфли, разомнет пальцы на ногах. Потом ринется к холодильнику и попытается впихнуть в него сегодняшнюю добычу, грудью завоеванную в обеденный перерыв. Ох, сколько же много дел у неё каждый вечер: кухня, плита, картошка, жир, пыльный ковер, новое кресло, поругаться с мужем, разобраться с соседями, позвонить Нюрке, забежать к Томке, постирать полотенце, посмотреть телевизор, всплакнуть над тяжелой женской долей. Удивиться, что муж не хочет после скандала её жирное потное тело. Ещё больше удивиться, если он захочет заниматься этим мерзким и глупым развратом. Козёл, на соседку засматривается. Сковородку не почистила, а в ГУМе полотенчики с рюшечками, а у Томки духи новые, настоящие, французские, «Красная гвоздика», запах – обалдеть. Всё. Спать, спать, спать. Завтра на работу. Не забыть, по дороге купить сахар. Или не надо. В третьем отделе день рожденья, там чай и попью.
И приснится ей арбуз или рыба. И будет она гадать с утра и спрашивать своих коллег по работе: к деньгам это или к повышению.
Б-р-р! Кошмар!
А что же ребята?
Развезет пацана, а может ещё добавит. А может девчонка позвонит родителям про день рожденья у подружки и пойдет к нему домой. А может, они станут спать вместе, но он уснет, пока она будет стыдливо раздеваться в темноте. А под утро он разбудит её диким воплем, но не проснется сам. И она почувствует холод и ужас и влагу слёз на его мальчишеском лице. И прочитает на этом лице его сон, а может быть даже услышит его мысли.
А ему приснился не арбуз и не селёдка. И на девушек ему было сейчас наплевать. Не снились ему девушки. Ему снились другие сны, полные предчувствий. Утренние, всемогущие, последние, смутные сны.
Он когда-то писал стихи. Когда-то. Это было так давно и не пишет он теперь. Потому что не знает, как подобрать рифму к предсмертному крику простреленного лёгкого, к воплю казнимого, не знает ритм и метр изнасилования, не знает метр для треска автоматов. Не знает, каким размером описать только что остановившиеся глаза мертвого друга? В которых больше не отражается небо, а в ушах еще играет музыка из плейера. Да и в какой типографии найдётся краска для красноты, запёкшейся на белой человеческой коже?
Он мог бы спеть, как они засыпали под уханье снарядов. Но в какой музыке найдутся звуки для свистящих осколков и мата тех, в кого они попали.
Он мог бы рассказать, как лица истекают кровью. Все лица истекают кровью, и кровь сочится изо рта, а все руки держат ручные гранаты.
Он мог бы прокричать всему автобусу, что они думают, что он ешё мальчик.
– Не надо испытывать ко мне сострадание, – кричал бы он, – презрительное бабское сострадание. Я уже пил водку и мне всё было нипочём, и автомат у меня был и стрелял я, и один-одинёшенек сидел в окопе.
Это же так просто, ничего тут особенного нет. Самое обыкновенное дело. Мы солдатики. Солдатики – это мы. Ничего особенного, самое обыкновенное дело. Вокзал. Поезд. И лица. Вот и всё.
В вагонах каждый ещё чувствовал запах горячих девичьих губ. В темноте чуял. Но никто не позволил себе ни единой слезинки. Никто из нас.
Мы пели, а в воронках уже разлагался красный тёплый малиновый сироп, однократный сироп, для которого нет замены и, который ни за какие деньги не купишь, ни за какие... И когда страх заставлял нас глотать придорожную грязь и бросал в растерзанное материнское лоно земли, тогда мы заклинали небо, глухонемое небо: не вводи нас во искушение дезертирства и отпусти нам вот эти автоматы, прости нас. Но не было никого, чтобы простить нас. Никого не было. А дальше... но для этого не существует определения, перед этим всё – болтовня. Кто знает размер железного треска автоматов и, кто знает рифму для вскрика восемнадцатилетнего мужчины, который, зажав в руках свои кишки, исходит стонами? Кто же, кто? Никто!..
Когда в то оловянное утро мы оставляли за собою вокзал мы отлично пели, потому что война была нам по вкусу. Но пришла она потом. Потом она уже была. И всё перед ней сделалось болтовнёй. Не нашлось определения под стать ей, рыкающему, могучему, заразному зверю, не нашлось. Да и что собственно зовётся войной? Жалкая болтовня рядом со звериным рыком огнедышащей пасти орудийного жерла. И предательство перед огнедышащей пастью преданных и проданных героев. Жалким образом преданных во власть металла, фосфора, голода. И вот мы снова говорим: «была война», или больше ничего не говорим, потому что нет у нас определений, чтобы хоть на секунду воссоздать её, хоть на одну секунду. И опять мы просто говорим: «да, так оно и было» потому что всё остальное – болтовня, нет ведь определений для неё, нет рифмы и ритма, так же как нет ни оды, ни драмы, ни психологического романа, которые бы вместили её, не лопнули бы от её кроваво-красного рыка... Война, и мы пели от смелости, мы мужчины. О, сколько в нас было рвения, что мы пели.
Война. И тут она настала. Пришла. И прежде, чем мы что-то поняли – вернулись. А между тем и этим пролегла наша жизнь. То есть десять тысяч лет. Но теперь всё кончилось. Для нас. Теперь там другие. А нас выплюнуло в эту далёкую страну, где мир. Непонятную страну. И никто, никто не узнаёт нас, двадцатилетних стариков: так нас опустошил рёв войны. Кто ещё помнит нас? Где те, что ещё могли бы узнать нас? Где они? Девчонки в испуге чуют запах катастроф, что как холодный пот, проступает на нашей коже в их объятиях. Ощущают одинокий металлический вкус наших поцелуев, цепенея, вдыхают из наших волос марципанно-приторный дымящийся запах крови убитых братьев и не могут понять нашей горькой нежности. Потому что в них мы насилуем нашу беду. Убиваем её, топим в водке, покуда одна понявшая и принявшая не спасёт нас. Одна. Спасёт. Но никто нас не узнаёт. И теперь мы бредём по родине. По РОДИНЕ. По чужой стране, где никто нас не узнаёт и где никому мы не нужны.
А там наш лейтенант был так удивлён, что глаза у него сделались как у рыбы: безмерно удивлённые и глупые. Наш лейтенант очень удивился смерти. Не смог её понять.
А тут мы бродим в городах. Уродливые жаждущие и потерянные. И окна – редкость для нас, странность и редкость. Но всё-таки они есть, вечером в сумерках, с тёплыми от сна женщинами, розовый клочок неба. Но как они редки, как редки. И мы бредём к новому не построенному городу, где все окна принадлежат нам, и все женщины, и всё, всё, всё. Мы бредём к нашему городу, к новому городу, и по ночам наши сердца кричат, как пароходные трубы от жажды и тоски по родине. И наш город, это новый город. Это город, в котором мудрые люди – учителя и министры – не лгут, и поэты обольщаются лишь разумом своего сердца. Это город, в котором не умирают восемнадцатилетние мальчишки. Город, где девушки не болеют сифилисом. Город, где нет кресел на колесах, город, где дождь называется дождём и солнце – солнцем. Город, где нет подвалов, в которых сидят звери, город, где крысы не пожирают человечину, где нет чердаков, и деревьев с притаившимися снайперами. Это город где юноши не слепцы, не однорукие, город, где нет генералов. Это новый великолепный город, в котором все друг друга слышат и видят и все друг друга понимают: любовь, солнце, дождь, день, ночь.
И к новому городу, всем городам городу, бредём мы, бредём мы, голодные, сквозь ночи. И утром, когда мы просыпаемся и знаем, а нам дано это страшное знание, что нового города нигде не найти, что нет его нигде, этого города, мы опять становимся старше на десять тысяч лет и наше утро холодно и горестно одиноко. О, как одиноко. И лишь поезда врываются в наш мучительный сон своим рыданием, в котором слышна тоска по чужим краям, тоска по родине, жадная, грозная, великая, возбуждённая. И они продолжают от боли кричать по ночам на холодно бесчувственных рельсах...
А утром он проснется. И они посмотрят друг на друга. Зверь на зверя, один мир на другой мир. И нет для этого определения. Широким, добрым отчуждённым, бесконечным тёплым и удивлённым взглядом посмотрят они друг на друга. Родные и враждебные, потерянные друг в друге и друг для друга.
И наступит конец, такой же, как все концы в жизни: банальный, бессловесный, захлестывающий. Дверь. Она уйдёт. А он будет стоять за дверью и не решится сделать шаг. Потому что каждый шаг означает: снова утрата.
Жаль. Они могли бы быть хорошей парой. А может быть я не прав и всё у них получится. Пойду на выход: моя остановка. Надо обязательно отдавить ногу этой визгливой твари с окорочками.
Жаль, что эта страна так забывчива и глухонема!
СПАСИБО ВАМ ПАЦАНЫ!
ПРОСТИТЕ НАС.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ НЕ ВЕРНУВШИМСЯ!
август 1995 Ростов-на-Дону
#ВадимРуденко
Другие произведения автора
Город Вадька-соло Мотивация Совок Детвора Волшебный пенёк Воин Ночь любви Грехи большого города Вечеринка Котенок За чертой Дядя Саша Высший разум Санта-Барбара песня одиночества 22













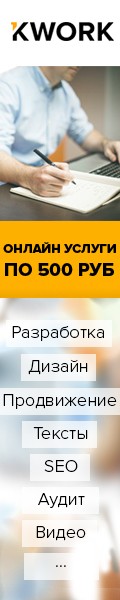
 : 646 710 242
: 646 710 242 : Wadimcdt
: Wadimcdt :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.